Бахтин О Рабле Краткое Содержание
То, что говорит сам М. Бахтин о книге Рабле, интересно и значительно. Он выделил ее из всей остальной литературы, показал ее связь с карнавалом, народными пародиями, но, как мне кажется, не показал точно, против кого направлена пародия. Карнавал был местом, где все люди получали права шутов и дураков: говорить правду.. Книга Рабле написана высокообразованным гуманистом, но она использует карнавальные обычаи самым разнообразным способом. Во время труда, в частности труда по посеву, по обработке, снимаются обычные половые запреты и вводятся другие законы. Вот как описывает время полевых работ Б. Малиновский в книге «Сексуальная жизнь туземцев северо-западной Меланезии».
Бахтин М М Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса Бахтин М.М. ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ Из всех великих писателей мировой литературы Рабле у нас наименее популярен, наименее изучен, наименее понят и оценен. А между тем Рабле принадлежит одно из самых первых мест в ряду великих создателей европейских литератур. Белинский называл Рабле гениальным, 'Вольтером XVI века', а его роман - одним из лучших романов прежнего времени. Западные литературоведы и писатели обычно ставят Рабле - по его художественно-идеологической силе и по его историческому значению непосредственно после Шекспира или даже рядом с ним. Французские романтики, особенно Шатобриан и Гюго, относили его к небольшому числу величайших 'гениев человечества' всех времен и народов.
- О которой в те времена. Творчество Франсуа Рабле и народная.
- Бахтин ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.. Но краткий эпизод этот у Рабле совершенно преобразился. Он полон аллюзий на современные события борьбы Франции с Карлом V и на оборонные мероприятия, предпринятые в Париже. Эти мероприятия граждан изображены во всех деталях.. Преобладающее содержание их – р а з ъ я т и е н а ч а с т и ч е л о в е ч е с к о г о т е л. Клялись по преимуществу различными членами и органами божественного тела: телом господним, головой его, кровью, ранами, животом; клялись реликвиями святых и мучеников: ногами, руками, пальцами и т.п., хранившимися.
Его считали и считают не только великим писателем в обычном смысле, но и мудрецом и пророком. Вот очень показательное суждение о Рабле историка Мишле: 'Рабле собирал мудрость в народной стихии старинных провинциальных наречий, поговорок, пословиц, школьных фарсов, из уст дураков и шутов. Но, преломляясь через это шутовство, раскрывается во всем своем величии гений века и его пророческая сила. Всюду, где он еще не находит, он предвидит, он обещает, он направляет. В этом лесу сновидений под каждым листком таятся плоды, которые соберет будущее. Вся эта книга есть 'золотая ветвь'1 (здесь и в последующих цитатах курсив мой.
Все подобного рода суждения и оценки, конечно, относительны. Мы не собираемся решать здесь вопросы о том, можно ли ставить Рабле рядом с Шекспиром, выше ли он Сервантеса или ниже и т.п. Но историческое место Рабле в ряду этих создателей новых европейских литератур, то есть в ряду: Данте, Боккаччо, Шекспир, Сервантес, - во всяком случае, не подлежит никакому сомнению. Рабле существенно определил судьбы не только французской литературы и французского литературного языка, но и судьбы мировой литературы (вероятно, не в меньшей степени, чем Сервантес). Не подлежит также сомнению, что он - демократичнейший среди этих зачинателей новых литератур.
Но самое главное для нас в том, что он теснее и существеннее других связан с народными источниками, притом - специфическими (Мишле перечисляет их довольно верно, хотя и далеко не полно); эти источники определили всю систему его образов и его художественное мировоззрение. Именно этой особой и, так сказать, радикальной народностью всех образов Рабле и объясняется та исключительная насыщенность их будущим, которую совершенно правильно подчеркнул Мишле в приведенном нами суждении. Ею же объясняется и особая 'нелитературность' Рабле, то есть несоответствие его образов всем господствовавшим с конца XVI века и до нашего времени канонам и нормам литературности, как бы ни менялось их содержание. Рабле не соответствовал им в несравненно большей степени, чем Шекспир или Сервантес, которые не отвечали лишь сравнительно узким классицистским канонам. Образам Рабле присуща какая-то особая принципиальная и неистребимая 'неофициальность': никакой догматизм, никакая авторитарность, никакая односторонняя серьезность не могут ужиться с раблезианскими образами, враждебными всякой законченности и устойчивости, всякой ограниченной серьезности, всякой готовости и решенности в области мысли и мировоззрения. Отсюда - особое одиночество Рабле в последующих веках: к нему нельзя подойти ни по одной из тех больших и проторенных дорог, по которым шли художественное творчество и идеологическая мысль буржуазной Европы в течение четырех веков, отделяющих его от нас. И если на протяжении этих веков мы встречаем много восторженных ценителей Рабле, то сколько-нибудь полного и высказанного понимания его мы нигде не находим.
Романтики, открывшие Рабле, как они открыли Шекспира и Сервантеса, не сумели его, однако, раскрыть и дальше восторженного изумления не пошли. Очень многих Рабле отталкивал и отталкивает.
Огромное же большинство его просто не понимает. В сущности, образы Рабле еще и до сегодняшнего дня во многом остаются загадкой. Разрешить эту загадку можно только путем глубокого изучения народных источников Рабле. Если Рабле кажется таким одиноким и ни на кого не похожим среди представителей 'большой литературы' последних четырех веков истории, то на фоне правильно раскрытого народного творчества, напротив, - скорее эти четыре века литературного развития могут показаться чем-то специфическим и ни на что не похожим, а образы Рабле окажутся у себя дома в тысячелетиях развития народной культуры.
Рабле - труднейший из всех классиков мировой литературы, так как он требует для своего понимания существенной перестройки всего художественно-идеологического восприятия, требует умения отрешиться от многих глубоко укоренившихся требований литературного вкуса, пересмотра многих понятий, главное же - он требует глубокого проникновения в мало и поверхностно изученные области народного смехового творчества. Рабле труден. Но зато его произведение, правильно раскрытое, проливает обратный свет на тысячелетия развития народной смеховой культуры, величайшим выразителем которой в области литературы он является.
Освещающее значение Рабле громадно; его роман должен стать ключом к мало изученным и почти вовсе не понятым грандиозным сокровищницам народного смехового творчества. Но прежде всего необходимо этим ключом овладеть. Задача настоящего введения - поставить проблему народной смеховой культуры средневековья и Возрождения, определить ее объем и дать предварительную характеристику ее своеобразия.
Народный смех и его формы - это, как мы уже сказали, наименее изученная область народного творчества. Узкая концепция народности и фольклора, слагавшаяся в эпоху предромантизма и завершенная в основном Гердером и романтиками, почти вовсе не вмещала в свои рамки специфической народно-площадной культуры и народного смеха во всем богатстве его проявлений. И в последующем развитии фольклористики и литературоведения смеющийся на площади народ так и не стал предметом сколько-нибудь пристального и глубокого культурно-исторического, фольклористского и литературоведческого изучения. В обширной научной литературе, посвященной обряду, мифу, лирическому и эпическому народному творчеству, смеховому моменту уделяется лишь самое скромное место. Но при этом главная беда в том, что специфическая природа народного смеха воспринимается совершенно искаженно, так как к нему прилагают совершенно чуждые ему представления и понятия о смехе, сложившиеся в условиях буржуазной культуры и эстетики нового времени.
Поэтому можно без преувеличения сказать, что глубокое своеобразие народной смеховой культуры прошлого до сих пор еще остается вовсе не раскрытым. Между тем и объем и значение этой культуры в средние века и в эпоху Возрождения были огромными.
Целый необозримый мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального средневековья. При всем разнообразии этих форм и проявлений площадные празднества карнавального типа, отдельные смеховые обряды и культы, шуты и дураки, великаны, карлики и уроды, скоморохи разного рода и ранга, огромная и многообразная пародийная литература и многое другое - все они, эти формы, обладают единым стилем и являются частями и частицами единой и целостной народно-смеховой, карнавальной культуры. Все многообразные проявления и выражения народной смеховой культуры можно по их характеру подразделить на три основных вида форм: 1. Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые действа и пр.); 2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода: устные и письменные, на латинском и на народных языках; 3.
Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, клятва, народные блазоны и др.). Все эти три вида форм, отражающие - при всей их разнородности - единый смеховой аспект мира, тесно взаимосвязаны и многообразно переплетаются друг с другом. Дадим предварительную характеристику каждому из этих видов смеховых форм. Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действа или обряды занимали в жизни средневекового человека огромное место. Кроме карнавалов в собственном смысле с их многодневными и сложными площадными и уличными действами и шествиями, справлялись особые 'праздники дураков' ('festa stultorum') и 'праздник осла', существовал особый, освященный традицией вольный 'пасхальный смех' ('risus paschalis').
Более того, почти каждый церковный праздник имел свою, тоже освященную традицией, народно-площадную смеховую сторону. Таковы, например, так называемые 'храмовые праздники', обычно сопровождаемые ярмарками с их богатой и разнообразной системой площадных увеселений (с участием великанов, карликов, уродов, 'ученых' зверей). Карнавальная атмосфера господствовала в дни постановок мистерий и соти. Царила она также на таких сельскохозяйственных праздниках, как сбор винограда (vendange), проходивший и в городах. Смех сопровождал обычно и гражданские и бытовые церемониалы и обряды: шуты и дураки были их неизменными участниками и пародийно дублировали различные моменты серьезного церемониала (прославления победителей на турнирах, церемонии передачи ленных прав, посвящений в рыцари и др.). И бытовые пирушки не обходились без элементов смеховой организации, - например, избрания на время пира королев и королей 'для смеха' ('roi pour rire'). Все названные нами организованные на смеховом начале и освященные традицией обрядово-зрелищные формы были распространены во всех странах средневековой Европы, но особенным богатством и сложностью они отличались в романских странах, в том числе и во Франции.
В дальнейшем мы дадим более полный и подробный разбор обрядово-зрелищных форм по ходу нашего анализа образной системы Рабле. Все эти обрядово-зрелищные формы, как организованные на начале смеха, чрезвычайно резко, можно сказать принципиально, отличались от серьезных официальных - церковных и феодально-государственных - культовых форм и церемониалов. Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в которых они в определенные сроки жили. Это - особого рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно понятыми. Игнорирование или недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего последующего исторического развития европейской культуры.
Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры. В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество ('ритуальный смех'), рядом с серьезными мифами - мифы смеховые и бранные, рядом с героями - их пародийные двойники-дублеры. В последнее время эти смеховые обряды и мифы начинают привлекать внимание фольклористов2. Но на ранних этапах, в условиях доклассового и догосударственного общественного строя, серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать, 'официальными'. Это сохраняется иногда в отношении отдельных обрядов и в более поздние периоды.
Так, например, в Риме и на государственном этапе церемониал триумфа почти на равных правах включал в себя и прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин - и оплакивание (прославляющее) и осмеяние покойника. Но в условиях сложившегося классового и государственного строя полное равноправие двух аспектов становится невозможным и все смеховые формы - одни раньше, другие позже - переходят на положение неофициального аспекта, подвергаются известному переосмыслению, осложнению, углублению и становятся основными формами выражения народного мироощущения, народной культуры. Таковы карнавального типа празднества античного мира, в особенности римские сатурналии, таковы и средневековые карнавалы.
Они, конечно, уже очень далеки от ритуального смеха первобытной общины. Каковы же специфические особенности смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья и - прежде всего - какова их природа, то есть каков род их бытия? Это, конечно, не религиозные обряды вроде, например, христианской литургии, с которой они связаны отдаленным генетическим родством.
Организующее карнавальные обряды смеховое начало абсолютно освобождает их от всякого религиозно-церковного догматизма, от мистики и от благоговения, они полностью лишены и магического и молитвенного характера (они ничего не вынуждают и ничего не просят). Более того, некоторые карнавальные формы прямо являются пародией на церковный культ.
Все карнавальные формы последовательно внецерковны и внерелигиозны. Они принадлежат к совершенно иной сфере бытия. По своему наглядному, конкретно-чувственному характеру и по наличию сильного игрового элемента они близки к художественно-образным формам, именно к театрально-зрелищным. И действительно - театрально-зрелищные формы средневековья в значительной своей части тяготели к народно-площадной карнавальной культуре и в известной мере входили в ее состав. Но основное карнавальное ядро этой культуры вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой жизни. В сущности, это - сама жизнь, но оформленная особым игровым образом.
В самом деле, карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы даже в зачаточной ее форме. Рампа разрушила бы карнавал (как и обратно: уничтожение рампы разрушило бы театральное зрелище). Карнавал не созерцают, - в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ.
Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны. Таков карнавал по своей идее, по своей сущности, которая живо ощущалась всеми его участниками. Эта идея карнавала отчетливее всего проявлялась и осознавалась в римских сатурналиях, которые мыслились как реальный и полный (но временный) возврат на землю сатурнова золотого века. Традиции сатурналий не прерывались и были живы в средневековом карнавале, который полнее и чище других средневековых празднеств воплощал эту идею вселенского обновления. Другие средневековые празднества карнавального типа были в тех или иных отношениях ограниченными и воплощали в себе идею карнавала в менее полном и чистом виде; но и в них она присутствовала и живо ощущалась как временный выход за пределы обычного (официального) строя жизни.
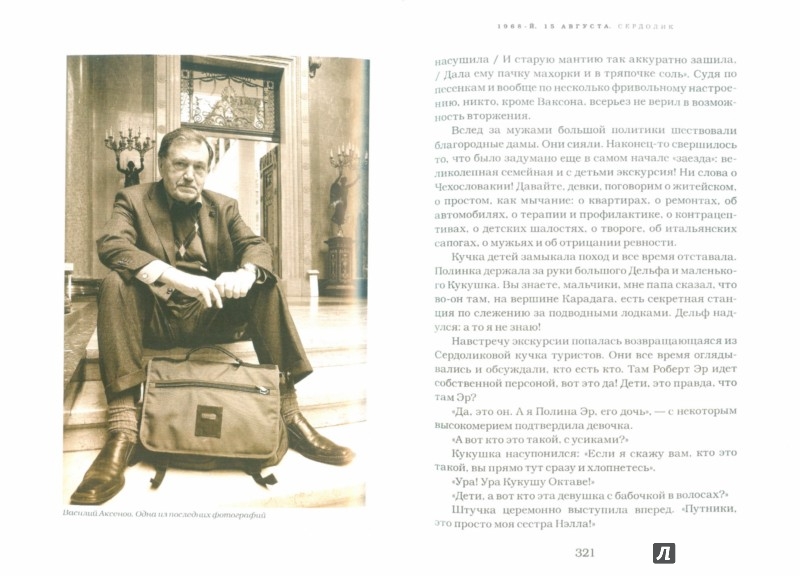
Итак, в этом отношении карнавал был не художественной театрально-зрелищной формой, а как бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую не просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на срок карнавала). Это можно выразить и так: в карнавале сама жизнь играет, разыгрывая - без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики - другую свободную (вольную) форму своего осуществления, свое возрождение и обновление на лучших началах.
Реальная форма жизни является здесь одновременно и ее возрожденной идеальной формой. Для смеховой культуры средневековья характерны такие фигуры, как шуты и дураки. Они были как бы постоянными, закрепленными в обычной (т.е. Некарнавальной) жизни, носителями карнавального начала. Такие шуты и дураки, как, например, Трибуле при Франциске I (он фигурирует и в романе Рабле), вовсе не были актерами, разыгрывавшими на сценической площадке роли шута и дурака (как позже комические актеры, исполнявшие на сцене роли Арлекина, Гансвурста и др.). Они оставались шутами и дураками всегда и повсюду, где бы они ни появлялись в жизни.
Как шуты и дураки, они являются носителями особой жизненной формы, реальной и идеальной одновременно. Они находятся на границах жизни и искусства (как бы в особой промежуточной сфере): это не просто чудаки или глупые люди (в бытовом смысле), но это и не комические актеры.
Итак, в карнавале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью. В этом специфическая природа карнавала, особый род его бытия. Карнавал - это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это его праздничная жизнь.
Праздничность - существенная особенность всех смеховых обрядово-зрелищных форм средневековья. Все эти формы и внешне были связаны с церковными праздниками. И даже карнавал, не приуроченный ни к какому событию священной истории и ни к какому святому, примыкал к последним дням перед великим постом (поэтому во Франции он назывался 'Mardi gras' или 'Caremprenant', в немецких странах 'Fastnacht').
Еще более существенна генетическая связь этих форм с древними языческими празднествами аграрного типа, включавшими в свой ритуал смеховой элемент. Празднество (всякое) - это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или - еще более вульгарная форма объяснения - из биологической (физиологической) потребности в периодическом отдыхе.
Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание. Никакое 'упражнение' в организации и усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая 'игра в труд' и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности.
Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. В основе его всегда лежит определенная и конкретная концепция природного (космического), биологического и исторического времени. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно эти моменты - в конкретных формах определенных праздников - и создавали специфическую праздничность праздника.
В условиях классового и феодально-государственного строя средневековья эта праздничность праздника, то есть его связь с высшими целями человеческого существования, с возрождением и обновлением, могла осуществляться во всей своей неискаженной полноте и чистоте только в карнавале и в народно-площадной стороне других праздников. Праздничность здесь становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия. Официальные праздники средневековья - и церковные и феодально-государственные - никуда не уводили из существующего миропорядка и не создавали никакой второй жизни. Напротив, они освящали, санкционировали существующий строй и закрепляли его. Связь с временем стала формальной, смены и кризисы были отнесены в прошлое. Официальный праздник, в сущности, смотрел только назад, в прошлое и этим прошлым освящал существующий в настоящем строй.
Официальный праздник, иногда даже вопреки собственной идее, утверждал стабильность, неизменность и вечность всего существующего миропорядка: существующей иерархии, существующих религиозных, политических и моральных ценностей, норм, запретов. Праздник был торжеством уже готовой, победившей, господствующей правды, которая выступала как вечная, неизменная и непререкаемая правда. Поэтому и тон официального праздника мог быть только монолитно серьезным, смеховое начало было чуждо его природе. Именно поэтому официальный праздник изменял подлинной природе человеческой праздничности, искажал ее. Но эта подлинная праздничность была неистребимой, и потому приходилось терпеть и даже частично легализовать ее вне официальной стороны праздника, уступать ей народную площадь. В противоположность официальному празднику карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов.
Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее. Особо важное значение имела отмена во время карнавала всех иерархических отношений. На официальных праздниках иерархические различия подчеркнуто демонстрировались: на них полагалось являться во всех регалиях своего звания, чина, заслуг и занимать место, соответствующее своему рангу.
Праздник освящал неравенство. В противоположность этому на карнавале все считались равными. Здесь - на карнавальной площади - господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного, семейного и возрастного положения. На фоне исключительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней сословной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный контакт между всеми людьми ощущался очень остро и составлял существенную часть общего карнавального мироощущения. Человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей.
И эта подлинная человечность отношений не была только предметом воображения или абстрактной мысли, а реально осуществлялась и переживалась в живом материально-чувственном контакте. Идеально-утопическое и реальное временно сливались в этом единственном в своем роде карнавальном мироощущении. Это временное идеально-реальное упразднение иерархических отношений между людьми создавало на карнавальной площади особый тип общения, невозможный в обычной жизни. Здесь вырабатываются и особые формы площадной речи и площадного жеста, откровенные и вольные, не признающие никаких дистанций между общающимися, свободные от обычных (внекарнавальных) норм этикета и пристойности. Сложился особый карнавально-площадной стиль речи, образцы которого мы в изобилии найдем у Рабле.
В процессе многовекового развития средневекового карнавала, подготовленного тысячелетиями развития более древних смеховых обрядов (включая - на античном этапе - сатурналии), был выработан как бы особый язык карнавальных форм и символов, язык очень богатый и способный выразить единое, но сложное карнавальное мироощущение народа. Мироощущение это, враждебное всему готовому и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность, требовало динамических и изменчивых ('протеических'), играющих и зыбких форм для своего выражения. Пафосом смен и обновлений, сознанием веселой относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального языка.
Для него очень характерна своеобразная логика 'обратности' (a l`envers), 'наоборот', 'наизнанку', логика непрестанных перемещений верха и низа ('колесо'), лица и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний и развенчаний. Вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как 'мир наизнанку'. Но необходимо подчеркнуть, что карнавальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре. Здесь, во введении, мы лишь бегло коснулись исключительно богатого и своеобразного языка карнавальных форм и символов. Понять этот полузабытый и во многом уже темный для нас язык - главная задача всей нашей работы. Ведь именно этим языком пользовался Рабле.
Не зная его, нельзя по-настоящему понять раблезианскую систему образов. Но этот же карнавальный язык по-разному и в разной степени использовали и Эразм, и Шекспир, и Сервантес, и Лопе де Вега, и Тирсо де Молина, и Гевара, и Кеведо; использовали его и немецкая 'литература дураков' ('Narrenliteratur'), и Ганс Сакс, и Фишарт, и Гриммельсгаузен, и другие. Без знания этого языка невозможно всестороннее и полное понимание литературы Возрождения и барокко. И не только художественная литература, но и ренессансные утопии, и само ренессансное мировоззрение были глубоко проникнуты карнавальным мироощущением и часто облекались в его формы и символы. Несколько предварительных слов о сложной природе карнавального смеха. Это прежде всего праздничный смех.
Это, следовательно, не индивидуальная реакция на то или иное единичное (отдельное) 'смешное' явление. Карнавальный смех, во-первых, всенароден (всенародность, как мы говорили уже, принадлежит к самой природе карнавала), смеются все, это - смех 'на миру'; во-вторых, он универсален, он направлен на все и на всех (в том числе и на самих участников карнавала), весь мир представляется смешным, воспринимается и постигается в своем смеховом аспекте, в своей веселой относительности; в-третьих, наконец, этот смех амбивалентен: он веселый, ликующий и одновременно - насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает. Таков карнавальный смех. Отметим важную особенность народно-праздничного смеха: этот смех направлен и на самих смеющихся. Народ не исключает себя из становящегося целого мира. Он тоже незавершен, тоже, умирая, рождается и обновляется. В этом - одно из существенных отличий народно-праздничного смеха от чисто сатирического смеха нового времени.
Чистый сатирик, знающий только отрицающий смех, ставит себя вне осмеиваемого явления, противопоставляет себя ему, - этим разрушается целостность смехового аспекта мира, смешное (отрицательное) становится частным явлением. Народный же амбивалентный смех выражает точку зрения становящегося целого мира, куда входит и сам смеющийся. Подчеркнем здесь особо миросозерцательный и утопический характер этого праздничного смеха и его направленность на высшее.
В нем - в существенно переосмысленной форме - было еще живо ритуальное осмеяние божества древнейших смеховых обрядов. Все культовое и ограниченное здесь отпало, но осталось всечеловеческое, универсальное и утопическое. Величайшим носителем и завершителем этого народно-карнавального смеха в мировой литературе был Рабле. Его творчество позволит нам проникнуть в сложную и глубокую природу этого смеха. Очень важна правильная постановка проблемы народного смеха. В литературе о нем до сих пор еще имеет место грубая модернизация его: в духе смеховой литературы нового времени его истолковывают либо как чисто отрицающий сатирический смех (Рабле при этом объявляется чистым сатириком), либо как чисто развлекательный, бездумно веселый смех, лишенный всякой миросозерцательной глубины и силы.
Амбивалентность его обычно совершенно не воспринимается. Переходим ко второй форме смеховой народной культуры средневековья - к словесным смеховым произведениям (на латинском и на народных языках).
Конечно, это уже не фольклор (хотя некоторая часть этих произведений на народных языках и может быть отнесена к фольклору). Но вся литература эта была проникнута карнавальным мироощущением, широко использовала язык карнавальных форм и образов, развивалась под прикрытием узаконенных карнавальных вольностей и - в большинстве случаев - была организационно связана с празднествами карнавального типа, а иногда прямо составляла как бы литературную часть их3. И смех в ней - амбивалентный праздничный смех. Вся она была праздничной, рекреационной литературой средневековья. Празднества карнавального типа, как мы уже говорили, занимали очень большое место в жизни средневековых людей даже во времени: большие города средневековья жили карнавальной жизнью в общей сложности до трех месяцев в году. Влияние карнавального мироощущения на видение и мышление людей было непреодолимым: оно заставляло их как бы отрешаться от своего официального положения (монаха, клирика, ученого) и воспринимать мир в его карнавально-смеховом аспекте. Не только школяры и мелкие клирики, но и высокопоставленные церковники и ученые богословы разрешали себе веселые рекреации, то есть отдых от благоговейной серьезности, и 'монашеские шутки' ('Joca monacorum'), как называлось одно из популярнейших произведений средневековья.
В своих кельях они создавали пародийные или полупародийные ученые трактаты и другие смеховые произведения на латинском языке. Смеховая литература средневековья развивалась целое тысячелетие и даже больше, так как начала ее относятся еще к христианской античности. За такой длительный период своего существования литература эта, конечно, претерпевала довольно существенные изменения (менее всего изменялась литература на латинском языке). Были выработаны многообразные жанровые формы и стилистические вариации. Но при всех исторических и жанровых различиях литература эта остается - в большей или меньшей степени - выражением народно-карнавального мироощущения и пользуется языком карнавальных форм и символов.
Очень широко была распространена полупародийная и чисто пародийная литература на латинском языке. Количество дошедших до нас рукописей этой литературы огромно. Вся официальная церковная идеология и обрядность показаны здесь в смеховом аспекте. Смех проникает здесь в самые высокие сферы религиозного мышления и культа. Одно из древнейших и популярнейших произведений этой литературы - 'Вечеря Киприана' ('Coena Cypriani') - дает своеобразную карнавально-пиршественную травестию всего Священного писания (и Библии и Евангелия). Произведение это было освящено традицией вольного 'пасхального смеха' ('risus paschalis'); между прочим, в нем слышатся и далекие отзвуки римских сатурналий. Другое из древнейших произведений смеховой литературы - 'Вергилий Марон грамматический' ('Vergilius Maro grammaticus') - полупародийный ученый трактат по латинской грамматике и одновременно пародия на школьную премудрость и научные методы раннего средневековья.
Оба эти произведения, созданные почти на самом рубеже средневековья с античным миром, открывают собою смеховую латинскую литературу средних веков и оказывают определяющее влияние на ее традиции. Популярность этих произведений дожила почти до эпохи Возрождения. В дальнейшем развитии смеховой латинской литературы создаются пародийные дублеты буквально на все моменты церковного культа и вероучения. Это так называемая 'parodia sacra', то есть 'священная пародия', одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой литературы. До нас дошли довольно многочисленные пародийные литургии ('Литургия пьяниц', 'Литургия игроков' и др.), пародии на евангельские чтения, на молитвы, в том числе и на священнейшие ('Отче наш', 'Ave Maria' и др.), на литании, на церковные гимны, на псалмы, дошли травестии различных евангельских изречений и т.п.
Создавались также пародийные завещания ('Завещание свиньи', 'Завещание осла'), пародийные эпитафии, пародийные постановления соборов и др. Литература эта почти необозрима. И вся она была освящена традицией и в какой-то мере терпелась церковью. Часть ее создавалась и бытовала под эгидой 'пасхального смеха' или 'рождественского смеха', часть же (пародийные литургии и молитвы) была непосредственно связана с 'праздником дураков' и, возможно, исполнялась во время этого праздника. Кроме названных, существовали и другие разновидности смеховой латинской литературы, например, пародийные диспуты и диалоги, пародийные хроники и др. Вся эта литература на латинском языке предполагала у ее авторов некоторую степень учености (иногда довольно высокую). Все это были отзвуки и отгулы площадного карнавального смеха в стенах монастырей, университетов и школ.
Латинская смеховая литература средневековья нашла свое завершение на высшем ренессансном этапе в 'Похвале Глупости' Эразма (это одно из величайших порождений карнавального смеха во всей мировой литературе) и в 'Письмах темных людей'. Не менее богатой и еще более разнообразной была смеховая литература средних веков на народных языках. И здесь мы найдем явления, аналогичные 'parodia sacra': пародийные молитвы, пародийные проповеди (так называемые 'sermons joieux', т.е. 'веселые проповеди', во Франции), рождественские песни, пародийные житийные легенды и др. Но преобладают здесь светские пародии и травестии, дающие смеховой аспект феодального строя и феодальной героики. Таковы пародийные эпосы средневековья: животные, шутовские, плутовские и дурацкие; элементы пародийного героического эпоса у кантасториев, появление смеховых дублеров эпических героев (комический Роланд) и др.
Создаются пародийные рыцарские романы ('Мул без узды', 'Окассен и Николет'). Развиваются различные жанры смеховой риторики: всевозможные 'прения' карнавального типа, диспуты, диалоги, комические 'хвалебные слова' (или 'Прославления') и др. Карнавальный смех звучит в фабльо и в своеобразной смеховой лирике вагантов (бродячих школяров). Все эти жанры и произведения смеховой литературы связаны с карнавальной площадью и, конечно, гораздо шире, чем латинская смеховая литература, используют карнавальные формы и символы. Но теснее и непосредственнее всего связана с карнавальной площадью смеховая драматургия средневековья.
Уже первая (из дошедших до нас) комическая пьеса Адама де ля Аля 'Игра в беседке' является замечательным образцом чисто карнавального видения и понимания жизни и мира; в ней в зачаточной форме содержатся многие моменты будущего мира Рабле. В большей или меньшей степени карнавализованы миракли и моралите. Смех проник и в мистерии: дьяблерии мистерий носят резко выраженный карнавальный характер.
Глубоко карнавализованным жанром позднего средневековья являются соти. Мы коснулись здесь только некоторых наиболее известных явлений смеховой литературы, о которых можно говорить без особых комментариев. Для постановки проблемы этого достаточно. В дальнейшем, по ходу нашего анализа творчества Рабле, нам придется подробнее останавливаться как на этих, так и на многих других менее известных жанрах и произведениях смеховой литературы средневековья. Переходим к третьей форме выражения народной смеховой культуры - к некоторым специфическим явлениям и жанрам фамильярно-площадной речи средневековья и Возрождения. Мы уже говорили раньше, что на карнавальной площади в условиях временного упразднения всех иерархических различий и барьеров между людьми и отмены некоторых норм и запретов обычной, то есть внекарнавальной, жизни создается особый идеально-реальный тип общения между людьми, невозможный в обычной жизни. Это вольный фамильярно-площадной контакт между людьми, не знающий никаких дистанций между ними.
Новый тип общения всегда порождает и новые формы речевой жизни: новые речевые жанры, переосмысление или упразднение некоторых старых форм и т.п. Подобные явления известны каждому и в условиях современного речевого общения.
'Собрание сочинений. 4(1): (1940 г.). Материалы к книге о Рабле (1930-1950-е гг.)' / Часть I СОДЕРЖАНИЕ О содержании и структуре четвертого тома Собрания сочинений М. 9 ФРАНСУА РАБЛЕ В ИСТОРИИ РЕАЛИЗМА (1940 г.). 11 Список литературы, цитируемой или упоминаемой (в ссылках или аллюзиях) в диссертационной работе Бахтина 'Рабле в истории реализма' (1946 г.).
507 Творчество Рабле и проблема народной культуры средневековья и Ренессанса (Дополнения и изменения к редакции 1949-1950 гг.). 517 МАТЕРИАЛЫ К КНИГЕ О РАБЛЕ (1930-1950-е гг.) Из ранних редакций (1938-1939 гг.) (Тетради к 'Рабле').
605 Набросок заключения. 676 Дополнения (1944 г.) Дополнения и изменения к 'Рабле'.
681 (Мениппова сатира и ее значение в истории романа). 733 Подготовительные материалы и конспекты (Проблема постоянного эпитета). 751 (Рассказы о животных). 753 Из конспектов к 'Рабле': G. Bote 'La vie et l'ceuvre de Francois Rabelais'. Paris, 1938. Reich 'Der Mimus.
Ein litterar-entwickelungs-geschichtlicher Versuch'. Berlin, 1903.
Cassirer 'Philosophie der symbolischen Formen. 2.Teil: Das mythische Denken'. Leipzig, 1925. 785 КОММЕНТАРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ Основные принципы публикации текстов в первой книге четвертого тома Собрания сочинений М. 831 История 'Рабле': 1930-1950-е годы.
841 Приложение 1: Переписка М. Бахтина о судьбе 'Рабле' (1940-е гг.). 925 Приложение 2: Отзывы Б. Томашевского и А.
Смирнова на книгу М. Бахтина о Рабле для Гослитиздата (1944 г.). 975 Приложение 3: Материалы к защите диссертации М. Бахтина 'Франсуа Рабле в истории реализма' (15 ноября 1946 г.). 985 Приложение 4: Материалы к рассмотрению диссертации М. Бахтина в ВАК (1947-1952 гг.).1069 т. 4(1) 'ФРАНСУА РАБЛЕ В ИСТОРИИ РЕАЛИЗМА' (1940 г.) МАТЕРИАЛЫ К КНИГЕ О РАБЛЕ (1930-1950-е гг.) КОММЕНТАРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ ЧЕТВЕРТОГО ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М.
БАХТИНА В четвертом томе Собрания сочинений Михаила Михайловича Бахтина печатается книга о Рабле и архивные материалы, связанные с ее историей. История книги 'Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса', выпущенной в 1965 году издательством 'Художественная литература', началась в 1930-е годы.
В 1940 году рукопись под названием 'Франсуа Рабле в истории реализма' была завершена. Попытки опубликовать ее целиком или частями в 1940-1941 годах не увенчались успехом. В 1944 году Бахтин начал переработку книги для Гослитиздата, однако его ждала неудача. В 1945 году возник проект издания 'Рабле' во Франции, но он не состоялся. В 1946 году Бахтин защитил рукопись книги в качестве диссертации.
Ученый совет Института мировой литературы им. Горького провел две процедуры голосования - отдельно за присуждение кандидатской и докторской степени. Докторскую диссертацию Бахтина ВАК рассматривала с 1947 по 1952 год. В 1949-1950 годах Бахтин переработал рукопись по замечаниям ВАК. Теперь она называлась 'Творчество Рабле и проблема народной культуры средневековья и Ренессанса'.
В 1952 году ходатайство о присуждении за нее докторской степени было окончательно отклонено; в том же году Бахтину был выдан диплом кандидата филологических наук. После 1950 года Бахтин надолго оставил 'Рабле'. В начале 1960-х годов он вернулся к работе над рукописью для издательства 'Художественная литература'. В 1965 году книга впервые увидела свет. Долгая и разножанровая история рукописи 'Рабле', предшествовавшая ее первой публикации, определила содержание и структуру предназначенного ей тома. Четвертый том состоит из двух книг. Первая посвящена истории 'Рабле' в рукописи - от 1930-х до 1950-х годов.
Вторая - изданной в 1965 году книге. Соответственно распределен и публикуемый материал: тексты М. Бахтина, архивные документы, приложения и комментарии. Подробнее о структуре двух полутомов.
Первый полутом целиком архивный. В состав публикуемых текстов включены: первая редакция книги 'Франсуа Рабле в истории реализма' (1940); дополнения и изменения ко второй редакции 'Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса' (1949-1950); материалы из ранних редакций 1938-1939 годов; дополнения 1944 года; подготовительные материалы и конспекты. Все тексты, за исключением 'Дополнений и изменений к 'Рабле', печатаются впервые. В разделе 'Комментарии и приложения' помещен очерк истории 'Рабле' в 1930-1950-е годы и четыре приложения: переписка о судьбе 'Рабле' в 1940-е годы, отзывы Б. Томашевского и А. Смирнова на книгу М. Бахтина для Гослитиздата (1944); материалы к защите диссертации в 1946 году; документы к рассмотрению диссертации в ВАК в 1947-1952 годах.
Во втором полутоме публикуется текст книги 'Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса' (1965), примыкающие к ней работы 1960-х годов, комментарий и указатели к обоим полутомам. ФРАНСУА РАБЛЕ В ИСТОРИИ РЕАЛИЗМА Aldyv na? Рас-20 крывается во всем своем величии гений века и его пророческая сила. Всюду, где он еще не находит, он предвидит, он обещает, он направляет. В этом лесу сновидений под каждым листком таятся плоды, которые соберет будущее. Вся эта книга есть 'золотая ветв ь'1.
Все подобного рода суждения и оценки, конечно, относительны. Мы не собираемся решать здесь вопросы о том, можно ли 1 См. М i с h е 1 е t 'Histoire de France', т.
Пророческая золотая ветвь, врученная Сибиллой Энею. Ставить Рабле рядом с Шекспиром, выше ли он Сервантеса или ниже и т. Но историческое место Рабле в ряду этих создателей новых европейских литератур, т.
В ряду: Данте, Боккачьо, Шекспир, Сервантес, - во всяком случае не подлежит никакому сомнению. Рабле существенно определил судьбы не только французской литературы и французского литературного языка, но и судьбы мировой литературы (вероятно, не в меньшей степени, чем Сервантес). Не подлежит также сомнению, что он - демократичнейший среди этих зачинателей новых ю литератур: он теснее и существеннее других связан с народными источниками, притом - специфическими (Мишле перечисляет их довольно верно, хотя и далеко не полно); эти источники определили всю систему его образов и его художественное мировоззрение. Именно этой особой и, так сказать, радикальной народностью всех образов Рабле и объясняется та исключительная насыщенность их будущим, которую совершенно правильно подчеркнул Мишле в приведенном нами суждении. Ею же объясняется и особая 'нелитературность' Раб- 20 ле, т. Несоответствие его образов всем господствовавшим с конца XVI.
И до нашего времени канонам и нормам литературности, как бы ни менялось их содержание. Рабле не соответствовал им в несравненно большей степени, чем Шекспир или Сервантес, которые не отвечали лишь сравнительно узким классицистским канонам. Образам Рабле присуща какая-то особая принципиальная и неистребимая 'неофициальность': с.з никакой догматизм, никакая авторитарностьникакая односторонняя серьезность не могут ужиться с раблезианскими образами, враждебными всякой законченности и устойчивости, зо всякой ограниченной серьезности, всякой готовости и решенности в области мысли и мировоззрения. Отсюда - особое одиночество Рабле в последующих веках: к нему нельзя подойти ни по одной из тех больших и проторенных дорог, по которым шли художественное творчество и идеологическая мысль. Европы в течение четырех веков, отделяющих его от нас.
И если на протяжении этих веков мы встречаем много восторженных ценителей Рабле, то сколько-нибудь полного и высказанного понимания его мы нигде не находим. Романтики, открывшие Рабле, как они открыли Шекспира и Сервантеса, не сумели его, однако, раскрыть и дальше восторженного изумления не пошли. Очень многих Рабле отталкивал и отталкивает.
Огромное же большинство его просто не понимает. В сущности, образы Рабле еще и до сегодняшнего дня во многом остаются загадкой. Разрешить эту загадку можно только путем глубокого изучения народных источников Рабле. Если Рабле кажется таким одиноким и ни на кого не похожим среди предста-ю вителей 'большой литературы' последних четырех веков истории, то на фоне правильно раскрытого народного творчества, напротив, - скорее эти четыре века литературного развития могут показаться чем-то специфическим и ни на что не похожим, а образы Рабле окажутся у себя дома в тысячелетиях развития народного творчества. Рабле - труднейший из всех классиков мировой литера-с.4 туры, так как он требует для своего понимания существенной перестройки нашего. художественно-идеологического восприятия, требует умения отрешиться от многих глубоко укоре-20 нившихся требований нашего литературного вкуса, пересмотра многих понятий, главное же - он требует глубокого проникновения в мало и поверхностно изученные области народного смехового творчества (далеко не полностью названные Мишле в приведенной нами цитате). Рабле труден.
Но зато его произведение, правильно раскрытое, проливает обратный свет на тысячелетия развития реализма в народном творчестве, наследником. которых он является. Освещающее значение Рабле громадно; его роман должен стать ключом к мало изученным и плохо понятым гран-зо диозным сокровищницам народного реализма.
Но прежде всего необходимо этим ключом овладеть. Дореволюционное русское литературоведение Рабле почти вовсе не занималось. У нас не было раблезистов. Не вышло ни одной книги о нем, ни одной монографии. Вся русская научная литература о Рабле до революции исчерпывается солидной.
статьей А. Веселовского и брошюркой Ю. Фохта (лишенной всякой с 5 научной ценности)3. Не было ни одной переводной монографии. Советское литературоведение, как это ни странно, не внесло существенных изменений в это положение. Рабле, одного из величайших реалистов мировой литературы, по-прежнему почти вовсе игнорируют. Небольшая осведомительного характера статейка.
А. Смирнова в Лит.(ературной) Энциклопедии и такого же характера статья Б. Кржевского, приложенная ко второму изданию неполного перевода романа Рабле., - вот и все, ю что опубликовано о нашем авторе. Нет ни одной исследовательской работы о нем; не сделано ни одной попытки пересмотреть наследие Рабле в свете положений и задач советского литературоведения, в особенности - в связи с вопросами теории и истории реалистического романа.
В центре всей исследовательской работы нашего литературоведения стоят вопросы теории и истории реализма (и в особенности реалистического романа) и вопросы влияния народного творчества на литературу. В связи с этим особую важность приобретает вопрос о реализме 20 самого народного творчества. Углубленное изучение наследия Рабле имеет первостепенное значение для правильной и продуктивной разработки всего этого круга вопросов. То, что Рабле до сих пор игнорировался (во всяком случае недооценивался), отражается пагубным образом на всем, что уже сделано у нас в области разработки теории и истории реализма. Всякая картина исторического развития реализма и всякая с 6 историко-систематическая типология его, построенные без надлежащего учета творчества Рабле, неизбежно окажутся зо искаженными и неверными. При этом творчество Рабле важно 2 А.
Веселовский 'Рабле и его Роман (Опыт генетического объяснения)'. Первоначально в 'Вестнике Европы' за 1878 г., март, стр. 128-200; затем - 'Собрание сочинений', т. Ф о х т 'Рабле, его жизнь и творчество', 1914 г.
Следует упомянуть, хотя это и не имеет прямого отношения к русской литературе о Рабле, что лектор французского языка бывшего С. Петербургского университета Jean Fleury опубликовал в 1876-1877 годах в Париже двухтомную компилятивную монографию о Рабле, для своего времени неплохую. Не только само по себе, но оно, как мы говорили, является ключом к правильному пониманию тысячелетиями развивавшихся форм и образов народного реализма. Поэтому игнорирование его в корне искажает как исторические перспективы, так и наше теоретическое понимание реализма.
В этом отношении показателен сборник статей под ред. Бер-ковского 'Ранний буржуазный реализм' (Ленинград, 1936 г.). Здесь дается картина развития реализма в его основных линиях и узловых моментах эпохи возрождения до Бальзака (включи- ю тельно). Специальные статьи посвящены роли в истории реализма Шекспира, Сервантеса, Фильдинга, Дидро, Жан-Поля и др., но о Рабле нет особой статьи. Более того, самое имя Рабле в сборнике почти не упоминается4.
Берковский в обширной вводной статье к сборнику ('Эволюция и формы раннего реализма на Западе', стр. 7-104), пытающейся дать типологию основных форм буржуазного реализма, вовсе ничего не говорит о Рабле. Берковский, по-видимому(, относит его творчество к типу 'гражданского реализма'. Он видит в этом типе прежде всего 'открытие материального быта', который и изображается 20 здесь гротескно, гиперболически, 'как нечто совершенно новое, исключительное, неслаженное с остальными элементами жизни' (стр. К этому типу относятся все разновидности плутовского романа и Сервантес.
Имени Рабле Берковский вовсе не упоминает в этой типологической статье. В другой своей более поздней работе - 'Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы' ('Западный сборник', 1, 1937 г., стр. 53 и дал.(ее)) - Берковский возобновляет попытку типологии реализма и дает подробную характеристику гражданского реализма, уже прямо называя и зо Рабле. Соответствующие высказывания Берковского являются единственной в советской литературе попыткой определить особенности реализма Рабле.
Кроме того, это - наиболее последовательная попытка построения историко-систематической типологии. реализма. Поэтому на ней следует остановиться подробнее. 4 Кажется, всего-навсего 2 раза: один раз в статье о Сервантесе (стр. 162 в скобках) и один раз в статье о Мерсье (стр. В основе 'гражданского реализма', по Берковскому, лежит 'открытие' мира материальных интересов, как движущего начала общественной жизни.
Это открытие стало возможным лишь тогда, когда материальные интересы обособились и оторвались от целого в самой общественной жизни, т. Только в эпоху разложения феодального строя и рождения капитализма. 'Именно этим и отличался, - говорит Берковский, - дисгармонический строй буржуазного общества, в котором материальное производство, освободившееся от коллективного регулиро-ю вания цеха, общины, превращалось в стихийную силу, потрясавшую старые уклады. Мир материальных интересов обособился, принял форму самостоятельных интересов частных лиц, практикующих 'эгоистически', вне учета того, что эта практика означает в целостном жизненном строе общества.
И только с этой поры возможной стала более или менее систематическая материалистическая интерпретация общественной жизни - реализм как стиль искусства: в самой действительности должен был 20 совершиться 'анализ', материальные основания общественной жизни должны были 'отвлечься' от всего комплекса общественной жизни, для того чтобы в них увидели главнейшую и всеопределяющую силу. Разумеется, здесь речь идет о стиле с8 реализма, хотя бы самого примитивного, хотя бы вульгарного, но тем не менее уже принципиального по своей природе' (стр. В этой цитате содержатся два очень важных утверждения. Утверждается, во-первых, что реализм, как стиль искусства, мог родиться только вместе с буржуазным строем, притом - зо всякий реализм, даже самый примитивный и вульгарный; до и вне буржуазного строя не могло быть, следовательно, никакого реализма. Во-вторых, утверждается, что материальное начало, открытое самым ранним типом реализма (совпадающим по времени с рождением буржуазного общества), дано в своей частно-эгоистической, животной, обособленной от остальной жизни общества форме.
Оба этих утверждения Берковского представляются нам совершенно неверными. Первое из них вовсе снимает даже самый вопрос о реализме народного творчества; кроме того, оно совершенно игнорирует так называемый 'готический. р е а -л и з м', развитие которого тянется через все средневековье и завершением которого в значительной степени и был реализм ренессанса, в частности - реализм Рабле. Но к критике этих двух утверждений Берковского мы обратимся несколько позже; теперь же остановимся на его дальнейших рассуждениях. Он особенно подчеркивает именно новизну материального начала в искусстве и литературе ре- ю нессанса. 'Искусство XV-XVII вв., - говорит он, - загипнотизировано, как необычайной новинкой, всеми видами 'физиологического состояния' общества - идет ли дело о шванках, фабльо, итальянских новеллистах или же о Рабле с его специальной манерой гигантских физиологических преувеличений, или же о.9 Сервантесе, сознательно культивирующем в своем письме штрих грубый, натуральный, 'животный' - всюду материальное содержание жизни подчеркнуто, возведено в степень грандиозного 20 и впервые увиденного зрелища. Быть может, в живописи, в фламандизме с его чрезмерной телесностью, две эти особенности ренессансного искусства достигают настоящей концентрации'.
Эти совершенно ложные утверждения Берковского возможны лишь потому, что он воспринимает литературу XV-XVI вв. На фоне большой (официальной) литературы последующих веков, а вовсе не на фоне. фольклора и литературы предшествующих периодов (в частности - готического. реализма). В литературе XV-XVI вв. Материальное начало, 'чрезмерная телес- 30 ность', 'физиологические преувеличения' вовсе не были 'необычайной новинкой' и 'впервые увиденным зрелищем', - такими они могли показаться только на фоне, например, классицизма XVII-XVIII вв.
напротив, они были традиционным моментом, унаследованным от готического. реализма или непосредственно почерпнутым из. фольклора. Эти особенности не могли, конечно, поражать современников как нечто новое и необычное. Это вовсе и не 'особенности ренессансного искусства' но особенности прежде всего готического.
реализма, сохранившиеся и в литературе ренессанса. Новизна же этой литературы в совершенно другом. И самая подчеркнутость материально-телесного начала является прямым наследием готического. реализма (и отчасти фольклора).
Берковского, между прочим, ввели в заблуждение некоторые моменты в 'Дон-Кихоте'. В своей ранее упомянутой статье (в сборнике 'Ранний буржуазный реализм') он приводит. Ю 'Дон-Кихота' отзыв свя щенника в романе 'Тирант Белый': ю 'Я вам правду говорю, сеньор кум, по стилю это лучшая книга на свете: рыцари здесь едят, спят, умирают в своих постелях, перед смертью пишут завещания и все прочее, чего в других романах этого рода вы не найдете'. Далее Берковский ссылается на дискуссии между Санчо и Дон-Кихотом о питании странствующих рыцарей, о деньгах и т. Отсюда Берковский делает вывод о новизне этого материального начала и относит его на счет нового буржуазного строя общества. На самом же деле такое снижающее подчеркивание материально-телесного момента в высшей степени 20 характерно для всего готического.
реализма, в частности для всей пародийной ветви его. Подобного рода снижающее подчеркивание материально-телесных и житейски-бытовых подробностей мы найдем уже в 'Yoca monachorum' (VI-VII в.), в 'Сепа Cypriani' и особенно в пародиях IX, X и XI вв., сущность которых в значительной степени сводилась именно к нарочитой и подчеркнутой выборке из библии, евангелия и из других священных текстов всех материально-телесных и житейски-бытовых, 'снижающих', подробностей.
Если бы Берковский вспомнил знаменитые диалоги Соломона с Марколь-зо фом, где высоким сентенциям Соломона противопоставлены снижающие изречения Маркольфа, переносящие вопрос в подчеркнуто грубую материальную сферу (еды, питья, половой жизни, испражнений), то он принужден был бы признать, что соответствующие диалоги Дон-Кихота и Санчо - только чрезвычайно смягченная и ослабленная форма готических. снижающих противопоставлений. Готический. реализм 'снижал' все без исключения.
П формы высокой идеологии средневековья путем перевода их в материально-телесный план, в том числе снижал он и все моменты рыцарской идеологии и феодальной героики. Снижения эти принимали самые разнообразные формы и осуществлялись в различных жанрах. Существовали даже, притом в эпоху самого расцвета феодализма, особые комические обряды при церемониях передачи и принятия ленных прав, посвящения в рыцари и т.
П., которые практиковались наряду с серьезным церемониалом (эти комические формы были особенно развиты во Франции). Следует упомянуть, что одним из ведущих моментов в ю комике средневекового шута был именно перевод всякого высокого церемониала, обряда и образа в материально-телесный план; таково было поведение шутов на турнирах, на придворных церемониях, во время застольных увеселений и т. П. Напомним еще об особой разновидности готического. реализма - школьных пародиях, в частности о пародийной грамматике, традиции которой тянутся от 'Virgilius grammaticus', возникшего где-то на рубеже поздней античности и раннего средневековья, через все средние века и эпоху возрождения и живы еще и сегодня в устной форме в духовных школах, в кол- 20 легиях и семинариях Западной Европы.
Сущность этой грамматики сводится к переосмыслению всех грамматических категорий - падежей, форм глаголов и пр. в материально-телесном плане, преимущественно эротическом5. Подчеркнем еще раз: готический. реализм не просто сни жает и пародирует явления высокого плана, - он переводит их в материально-телесный план, который при этом резко преувеличивается или во всяком случае оттеняется в своей специфичности. Ошибка Берковского (да и вообще всех наших литературо- зо ведов, писавших о реализме эпохи возрождения) в том, что он вовсе игнорирует готический.
реализм. Поэтому-то ему и представляется чем-то новым и впервые увиденным в литературе и искусстве возрождения как раз то, что является в них прямым наследием готического. реализма.
'Гигантские физиологические 5 Мы касаемся здесь всех этих явлений лишь предварительно: мы остановимся на этих явлениях готического. реализма в связи с творчеством Рабле подробнее в последующем. Преувеличения', 'чрезмерная телесность', находимые им в литературе и искусстве ренессанса, еще более преувеличены, еще более чрезмерны в готическом. реализме; материальное содержание жизни в нем подчеркнуто и нарочито противопоставлено всем высоким сферам жизни и идеологии. Литература и искусство ренессанса приняли это наследие готического.
реализма, но значительно смягчили его и, как мы подробно увидим дальше, кое в чем существенно переосмыслили. Поэтому первое утверждение Берковского в корне неверно: реализм - в смысле выдвижения на первый план материально-телесного начала6 - вовсе не рождается вместе с буржуазным строем общества, но лишь вступает при этом в новую фазу своего развития, переживая при этом некоторый кризис, приводящий к его измельчению и упадку в последующие два столетия (в XVII и XVIII в.). Если бы Берковский не ограничился повторением общих мест о физиологическом преувеличении, натурализме, животной стихии у Рабле, а проделал бы серьезный анализ раблезианского типа реализма и его источников, он никогда не совершил бы своей ошибки. Ему пришлось бы сделать 'открытие' материального содержания жизни, 'физиологических преувеличений' и 'чрезмерной телесности' в литературе готического. реализма уже почти за 10 веков до Рабле и Сервантеса.
Он бы нашел на утренней заре средневековья не только едящих, спящих, испражняющихся феодалов и героев, но и всех лиц священной истории, причем материально-телесное начало было подчеркнуто здесь гораздо резче и смелее, чем в литературе ренессанса. Игнорируя готический. реализм, Берковский игнорирует и реализм. фольклора. Между тем именно фольклор является подлинным источником всякого большого и положительного реалистического стиля. Весь готический.
реализм, на протяжении почти целого тысячелетия своего исторического развития, непосредственно вырастает на фольклорной основе (произведения его в значительной своей части носят полу-фольклорный анонимный характер); притом это касается не только произведений на народных языках, но и всей 6 Мы оставляем пока эту упрощенную и грубую формулу для реализма. Той латинской литературы, которая протекала в русле готического. реализма.
Именно образы материально-телесного содержания жизни, самую художественную концепцию тела и концепцию материальной вещи готический. реализм воспринял непосредственно из. фольклора. Реализм эпохи возрождения, будучи наследником и завершителем готического., и сам черпал непосредственно из фольклора. Это знает и Берковский.
Вот что он говорит: 'Наиболее последовательные проявления 'буржуазного реализма' в период ренессанса имеют плебейскую окраску и скрещиваются с фольклорным и народным опытом литературы. Я здесь имею в виду испанский плутовской роман, Сервантеса, немецкую народную книгу'. Это - совершенно верное утверждение, но к нему Берковский больше не возвращается и оставляет его нераскрытым.
Но если 'наиболее последовательные' формы ренессансного реализма скрещиваются с фольклором, то спрашивается, что же они могли взять из фольклора, как не реализм; но если это так, то именно с этого фольклорного реализма и надо было начинать типологию. Верное утверждение Берковского не нашло никакого применения в его концепции: Берковский не знает никакого фольклорного (народного) реализма, для него, как мы видели, всякий реалистический стиль, даже самый примитивный, начинается вместе с буржуазией. Странно также, что Берковский перечисляет Сервантеса, немецкую народную книгу, плутовской роман, но не называет Рабле, связь которого с фольклором является как раз наиболее сильной и наиболее очевидной. И здесь более глубокое изучение Рабле неизбежно привело бы к вопросу о фольклорном реализме и его формах. Рабле - наследник одного тысячелетия развития готического.
реализма и многих тысячелетий развития фольклорного реализма., и втиснуть его в узкие рамки концепции, начинающей историю реализма с рождения буржуазного общества, представилось бы очевидной нелепостью. Таким образом, первое утверждение Берковского, касающееся возникновения реализма, совершенно неверно. Неверно в общем и его второе утверждение о том, что материальное начало в литературе ренессанса дано в своей частно-эгоистической, буржуазной, животной, обособленной от остальной жизни общества форме, хотя некоторая доля истины в этом утверждении и есть.
15 Образы материально-телесного начала в литературе ренес- санса, как мы уже сказали, являются наследием готического. реализма и, кроме того, они проникнуты и непосредственным могучим влиянием фольклора. И в готическом. реализме и в фольклоре материально-телесная стихия является началом глубоко положительным, и дана здесь эта стихия вовсе не в частно-эгоистической форме и вовсе не в отрыве от остальных ю сфер жизни. Материально-телесное начало здесь воспринимается как универсальное и всенародное и именно как такое противопоставляется всякому отрыву от материально-телесных корней мира, всякому обособлению и замыканию в себя, всякой отвлеченной идеальности, всяким претензиям на отрешенную и независимую от земли и тела значимость. Тело и телесная жизнь носят здесь космический и всенародный характер; они не индивидуали-зованы до конца и не отграничены от остального мира. Поэтому го все телесное здесь так грандиозно, преувеличено, безмерно.
Преувеличение это носит положительный, утверждающий характер. Ведущий момент во всех этих образах материально-телесной жизни - плодородие, рост, бьющий через край избыток.
Все проявления материально-телесной жизни и все вещи отнесены не к единичной биологической особи и не к частному и эгоистическому, 'экономическому' человеку, - но как бы к народному, коллективному, родовому телу (дальше мы уточним смысл этих утверждений). Избыток и всенародность определяют и специфический веселый и зо п р а з д н и ч н ы й (а не буднично-бытовой) характер всех образов материально-телесной жизни в фольклоре и в готическом реализме. Этот характер сохраняется в значительной мере ив литературе и в искусстве ренессанса. с 16 Мы говорили, что одним из основных моментов готического.
реализма было 'снижение' высокого путем его перевода в материально-телесный план, т. В план земли и тела. Эта особенность была унаследована и реализмом ренессанса. В готическом. реализме громадное место занимают и так называемые 'пародии', главным образом на священные тексты и обряды ('parodia sacra').

Вся эта, преимущественно латинская, пародийная литература - она грандиозна - построена на том же низведении высокого в материально-телесный план. Поэтому пародии эти носят совершенно особый характер, резко отличный от литературных пародий нового времени. Но не только пародии в узком смысле, а и все остальные формы готического.
реализма снижают, приземляют, отелесни-вают. В этом - основная особенность готического. реализма, ю отличающая его от всех форм высокого искусства и литературы средневековья. Эта особенность роднит готический.
реализм и со всеми формами смехового фольклора. Народный смех, как и готический. реализм, искони был связан с материально-телесным низом. Смех снижает и материализует.
Какой же характер носят эти снижения, присущие всем формам готического. реализма и смехового фольклора? На этот вопрос мы дадим здесь пока предварительный ответ.
Творчество Рабле позволит нам в последующих главах уточнить, расширить и углубить наше понимание этих форм. 20 Снижения и низведения высокого носят здесь, в готическом.
реализме и смеховом фольклоре, вовсе не формальный и вовсе не относительный характер. 'Верх' и 'низ' имеют здесь абсолютное и строго топографическое значение. Верх - это небо; низ - это земля; земля же - это поглощающее начало (могила, чрево) и начало рождающее, возрождающее (материнское лоно). Таково топографическое значение верха и низа в космическом аспекте.
Краткое Содержание Герой Нашего Времени
В собственно телесном аспекте, который нигде четко не отграничен от космического, верх - это лицо (голова), низ - половые. органы, жи- зо вот и зад. С этими абсолютными топографическими значениями верха и низа и работает готический. реализм, в том числе и готическая. пародия.
Снижение здесь значит приземление, приобщение земле, как поглощающему и одновременно рождающему началу: снижая, и хоронят и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить с'изнова лучше и больше. Снижение значит так же приобщение к жизни нижней части тела, жизни живота и половых. органов, т.
Краткое Содержание Преступление И Наказание
К совокуплению, зачатию, беременности, рождению, пожиранию, испражнению. Снижение роет телесную могилу для нового рождения. Поэтому снижение путем перевода в материально-телесный план имеет не только уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, возрождающее: оно амбивалентно, оно отрицает и утверждает одновременно. Сбрасывают не просто в низ, в небытие, в абсолютное уничтожение, - но. низвергает в совершенно определенный. низ, в тот самый низ, где происходит зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком; другого низа смеховой фольклор и готический. реализм и не знают, низ - это рождающая земля.
или телесное лоно, низ всегда зачинает. Поэтому и готическая. пародия совершенно не похожа на чисто формальную литературную пародию нового времени, где низ относителен и лишен производительно-рождающей силы (поэтому и пародия, как жанр, и всякого рода снижения в условиях нового времени не могли, конечно, сохранить своего прежнего громадного значения). Пародийный, снижающий момент в литературе ренессанса занимает, как известно, очень большое место. Этот момент здесь - наследие готического.
реализма и.фольклора. Низ еще не утратил своего абсолютного топографического значения, это еще - земля, рождающее лоно, половой. орган. Пародийное снижение еще совершается путем перевода снижаемого в материально-телесный план - источник плодородия, возрождения и роста. Основная линия пародийного снижения у Сервантеса носит характер приземления, приобщения возрождающей производительной силе земли в том числе даже и в узком экономическомземледельческом смысле. Это - продолжение готической.
линии. Но в то же время материально-телесное начало у Сервантеса уже несколько оскудело и измельчало. Оно находится в состоянии своеобразного кризиса и раздвоения. Образы материально-телесной жизни живут у него двойною жизнью: толстое брюхо Санчо ('Panza'), его аппетит и жажда в основе своей еще глубоко фольклорны; тяга его к изобилию и полноте в основе своей не носит еще частно-эгоистического и отъединенного характера, это - тяга к коллективному изобилию. Санчо прямой потомок древних брюхатых демонов плодородия, фигуры которых мы видим, например, на знаменитых коринфских вазах. Поэтому в образах еды и питья еще жив народно-пиршественный, положительный момент.